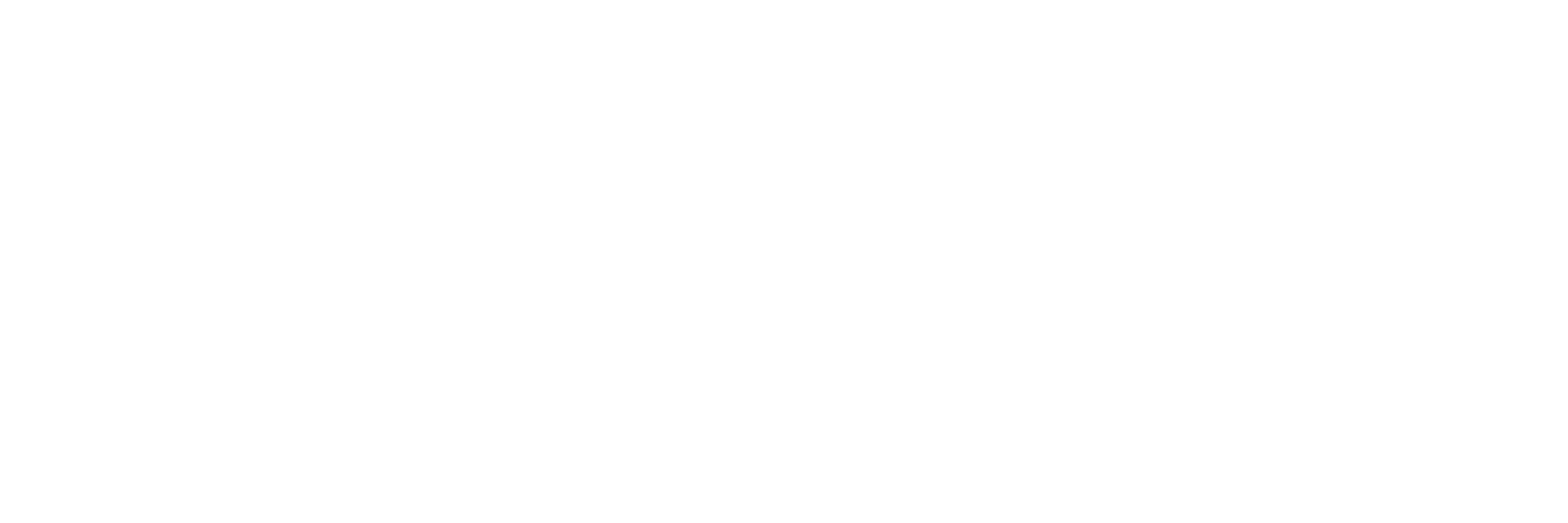Философ в мире
о миссии философии в ситуации пандемии
Непрекращающийся вопрос о том, как философия соотносится с жизнью в сегодняшней пандемической ситуации вновь стал актуальным. Но он, конечно, традиционен и возник, разумеется, не сегодня. В нем как правило упреки в адрес философии за ее оторванность от реальной жизни, абстрактность, спекулятивность и проч. Философия же мало реагирует на подобную «критику», время от времени вбрасывая в мир очередную мощную апологию в виде нового знакового философского произведения. Так появляется «Критика чистого разума», «Феноменология духа», «Мир как воля и представление», «По ту сторону добра и зла», «Оправдание добра», «Бытие и время», «Истина и метод», «Слова и вещи», «Критика цинического разума» и т.д.
Разумеется, философы, начиная с Гераклита и Сократа, занимались также и разъяснением, в чем заключается сущность философского дела, и чем оно отличается от всех других родов человеческой деятельности, прежде всего, от научной, религиозной и политической
Эти тексты есть показатель самобытия философии, ее собственной жизни, жизни никогда не прекращающейся, несмотря на усилившиеся восклицания о смерти философии в XX веке. Но, разумеется, философы, начиная с Гераклита и Сократа, занимались также и разъяснением, в чем заключается сущность философского дела, и чем оно отличается от всех других родов человеческой деятельности, прежде всего, от научной, религиозной и политической. Ибо философию часто подменяют именно этими видами духовного бытия. То есть речь идет не много ни мало о миссии философии, о ее культурной и социальной миссии.
Но здесь возникает парадокс вот такого свойства: не многие великие философы, создавшие великие произведения, изменившие мир, способны доходчиво и ясно разъяснить вопрос о миссии философии людям, которые в большинстве своем философами не являются. По крайней мере, не считают себя таковыми, хотя предъявляют философии претензии и, несмотря ни на что, чего-то ждут от нее.
Но здесь возникает парадокс вот такого свойства: не многие великие философы, создавшие великие произведения, изменившие мир, способны доходчиво и ясно разъяснить вопрос о миссии философии людям, которые в большинстве своем философами не являются. По крайней мере, не считают себя таковыми, хотя предъявляют философии претензии и, несмотря ни на что, чего-то ждут от нее.
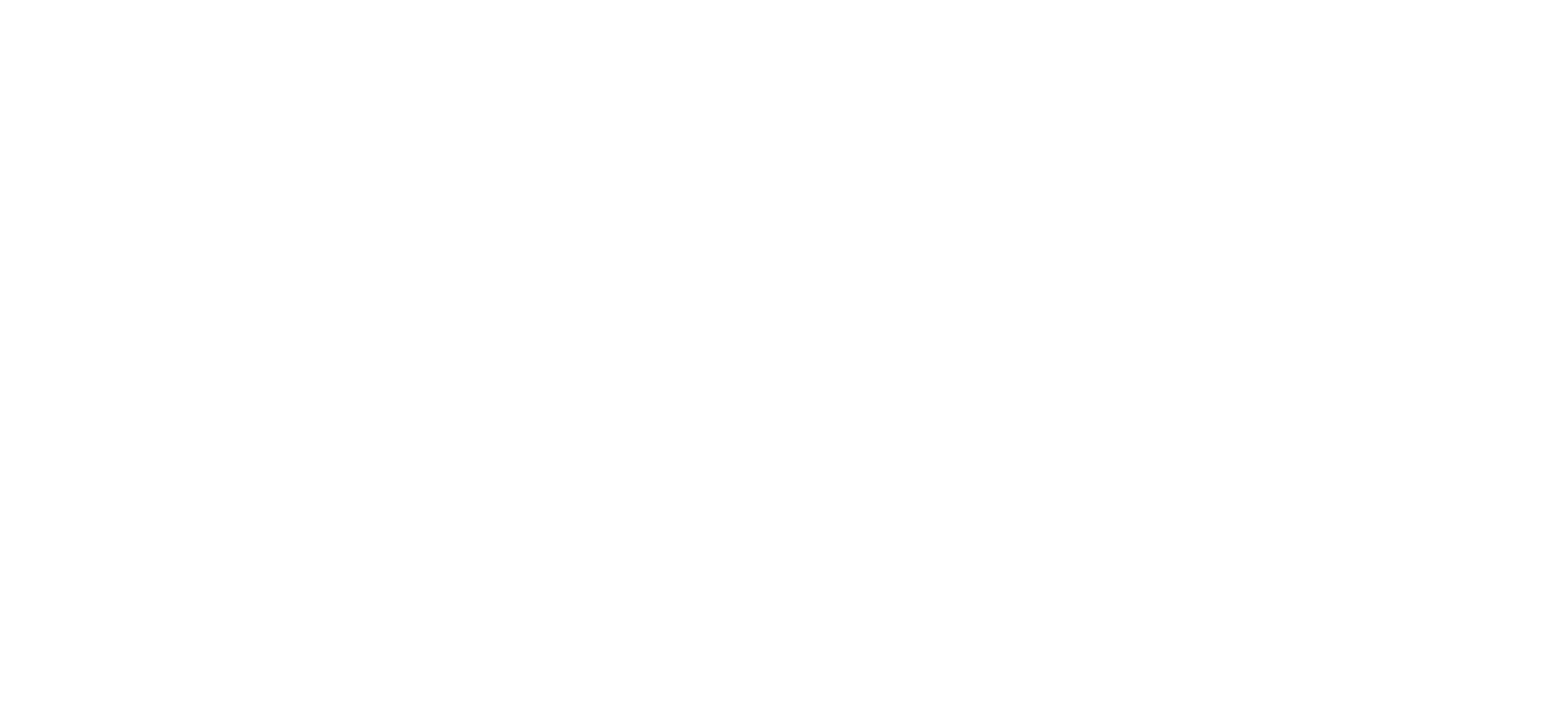
Философ может сейчас честно заявить свою позицию, что он не знает, что происходит. Проявить сократовское незнание, которое есть на самом деле более высокое знание, в котором утонут все имеющиеся бесконечные версии и интерпретации, в которых нет ни грана истины. Или последовать за Хадеггером, который говорил, что «отрешенность от вещей» и «открытость тайне» обладают спасительным действом для человека
Среди больших философов XX столетия хотелось бы вспомнить Жака Маритена и его выступление «Философ во граде», в которой он предельно точно выразил сущность истинной миссия философа и философии. Представляется, что его слова значимы и сегодня, поскольку выраженные в них слова имеют вневременное значение.
Его главная мысль в том, что общество чрезвычайно нуждается в философе. Действительно, философ ведь всегда обращается к людям и не только к своим коллегам, представителям философского сообщества. Такие тоже есть, но все-таки потаенная амбиция философа получить признание в широких слоях мыслящих людей, а не мыслящих подвинуть к осмысленному существованию. Даже если он выражает крайний скепсис по отношению к современникам, как, например, Шопенгауэр, с горечью писавший в своих предисловиях к «Миру как воли и представлении», что совершенно не рассчитывает на ближайшее признание, а пишет в расчете на будущих думающих людей. В конце концов, он пишет для вечности, а не для времени.
Но как привести друг к другу эти две такие несоизмеримые величина как общество и философия? Часто дело кажется просто безнадежным. Вот, что говорит Маритен: «К сожалению, трудно сказать, кто он такой, собственно философ: эта достойная уважения абстракция существует лишь в наших умах. Философов множество, но как только они начинают философствовать, выясняется, что они несогласны или делают вид, что несогласны по поводу всех вещей, в том числе и по поводу первопринципов, философии. Каждый идет своей собственной дорогой. Философы ставят под вопрос все объекты, относительно которых существует общее согласие, и их ответы противоречат друг другу. Чего же ожидать от них для блага общества?»
Кажется, что после этих слов можно поставить крест на философии, тем более что это выдвижение философа в общественную сферу может оказать и небезопасным для него, как в случае с Сократом. Но именно в этом и кроется высшая значимость философии для общества. И даже если, отмечает Маритен, философы бесконечно разделены между собой, то сам поиск истины их объединяет, и возникающие между ними несогласия являются как раз свидетельством такого поиска. И здесь нет разницы между философией и другими родами деятельности. Никто никогда ни с чем не согласен. Разница лишь в том, что несогласие в остальных областях разворачивается вокруг тех или иных истин, в то время как в философии речь идет о самой Истине как таковой. Как же здесь не возникнуть несогласию?!
И далее Маритен говорит важнейшие вещи о философии, о ее неутилитарной природе, в чем всегда так нуждаются люди, если они хотят оставаться людьми. А они хотят, несмотря на все попытки дегуманизации и расчеловечивания. И вот для того, чтобы людям оставаться людьми, им и нужна философия, нужда в которой становится временами самой острой и необходимой. «Ведь люди, как говорит Маритен, не живут лишь хлебом, витаминами и техническими открытиями. Они живут ценностями и реалиями, которые возвышаются над временем и достойны познания сами по себе: они питаются той невидимой пищей, что поддерживает жизнь духа и заставляет их задуматься не только о тех или иных средствах, служащих их жизни, но и о самом смысле существования, страдания и надежды».
С эти трудно спорить, оставаясь в рамках разумной человечности. Что бы человек ни делал в практической сфере, он так или иначе решает прежде всего предельные вопросы. Если человек страдает, утратил смысл и надежу, то но не сможет действовать, или его действия будут неадекватными, от которых он впадет в еще большее отчаяние. Его действия зависят прежде всего от мысли, а не наоборот. Кажется, это прописная истина. Но философия все равно отрицается и ей указывается на ее непрактичность. Как будто такие вещи как существование, страдания и надежду выдумали философы. Это присуще всем, философы лишь глубже думали над ними. Так почему же к ним не прислушаться?
В конце концов, социальная миссия философа в том, убежден Маритен, чтобы оставаясь в рамках философии, открыто заявлять о своих взглядах, выражать свои мысли и свое понимание истины. Он не должен делать никаких специфических заявлений на политические темы, но его свободное высказывание может иметь и политический эффект. Тоже самое и в области науки, религии, искусства, культуры в целом. Свободная мысль философа содержит в себе истинный посыл, или посыл истины, которого нет в других формах существующих дискурсов. Более того, философ ставит под сомнение все существующие дискурсы, претендующие на истину и понимание. И даже если он не выскажет сам какой-то утвердительной истины, его критика наличных мнений может возыметь очень продуктивное действие, так как показывает и разоблачает всегдашнюю человеческую ограниченность, если не глупость. По крайне мере философ может не дать воцариться очередной утопии, заблуждению, обману, ошибки. Вот почему именно философов не просто мало, их вообще нет в официальном медийном дискурсе.
Философ должен высказывать свои мысли, и в этом его миссия, в этом его дело.
Его главная мысль в том, что общество чрезвычайно нуждается в философе. Действительно, философ ведь всегда обращается к людям и не только к своим коллегам, представителям философского сообщества. Такие тоже есть, но все-таки потаенная амбиция философа получить признание в широких слоях мыслящих людей, а не мыслящих подвинуть к осмысленному существованию. Даже если он выражает крайний скепсис по отношению к современникам, как, например, Шопенгауэр, с горечью писавший в своих предисловиях к «Миру как воли и представлении», что совершенно не рассчитывает на ближайшее признание, а пишет в расчете на будущих думающих людей. В конце концов, он пишет для вечности, а не для времени.
Но как привести друг к другу эти две такие несоизмеримые величина как общество и философия? Часто дело кажется просто безнадежным. Вот, что говорит Маритен: «К сожалению, трудно сказать, кто он такой, собственно философ: эта достойная уважения абстракция существует лишь в наших умах. Философов множество, но как только они начинают философствовать, выясняется, что они несогласны или делают вид, что несогласны по поводу всех вещей, в том числе и по поводу первопринципов, философии. Каждый идет своей собственной дорогой. Философы ставят под вопрос все объекты, относительно которых существует общее согласие, и их ответы противоречат друг другу. Чего же ожидать от них для блага общества?»
Кажется, что после этих слов можно поставить крест на философии, тем более что это выдвижение философа в общественную сферу может оказать и небезопасным для него, как в случае с Сократом. Но именно в этом и кроется высшая значимость философии для общества. И даже если, отмечает Маритен, философы бесконечно разделены между собой, то сам поиск истины их объединяет, и возникающие между ними несогласия являются как раз свидетельством такого поиска. И здесь нет разницы между философией и другими родами деятельности. Никто никогда ни с чем не согласен. Разница лишь в том, что несогласие в остальных областях разворачивается вокруг тех или иных истин, в то время как в философии речь идет о самой Истине как таковой. Как же здесь не возникнуть несогласию?!
И далее Маритен говорит важнейшие вещи о философии, о ее неутилитарной природе, в чем всегда так нуждаются люди, если они хотят оставаться людьми. А они хотят, несмотря на все попытки дегуманизации и расчеловечивания. И вот для того, чтобы людям оставаться людьми, им и нужна философия, нужда в которой становится временами самой острой и необходимой. «Ведь люди, как говорит Маритен, не живут лишь хлебом, витаминами и техническими открытиями. Они живут ценностями и реалиями, которые возвышаются над временем и достойны познания сами по себе: они питаются той невидимой пищей, что поддерживает жизнь духа и заставляет их задуматься не только о тех или иных средствах, служащих их жизни, но и о самом смысле существования, страдания и надежды».
С эти трудно спорить, оставаясь в рамках разумной человечности. Что бы человек ни делал в практической сфере, он так или иначе решает прежде всего предельные вопросы. Если человек страдает, утратил смысл и надежу, то но не сможет действовать, или его действия будут неадекватными, от которых он впадет в еще большее отчаяние. Его действия зависят прежде всего от мысли, а не наоборот. Кажется, это прописная истина. Но философия все равно отрицается и ей указывается на ее непрактичность. Как будто такие вещи как существование, страдания и надежду выдумали философы. Это присуще всем, философы лишь глубже думали над ними. Так почему же к ним не прислушаться?
В конце концов, социальная миссия философа в том, убежден Маритен, чтобы оставаясь в рамках философии, открыто заявлять о своих взглядах, выражать свои мысли и свое понимание истины. Он не должен делать никаких специфических заявлений на политические темы, но его свободное высказывание может иметь и политический эффект. Тоже самое и в области науки, религии, искусства, культуры в целом. Свободная мысль философа содержит в себе истинный посыл, или посыл истины, которого нет в других формах существующих дискурсов. Более того, философ ставит под сомнение все существующие дискурсы, претендующие на истину и понимание. И даже если он не выскажет сам какой-то утвердительной истины, его критика наличных мнений может возыметь очень продуктивное действие, так как показывает и разоблачает всегдашнюю человеческую ограниченность, если не глупость. По крайне мере философ может не дать воцариться очередной утопии, заблуждению, обману, ошибки. Вот почему именно философов не просто мало, их вообще нет в официальном медийном дискурсе.
Философ должен высказывать свои мысли, и в этом его миссия, в этом его дело.
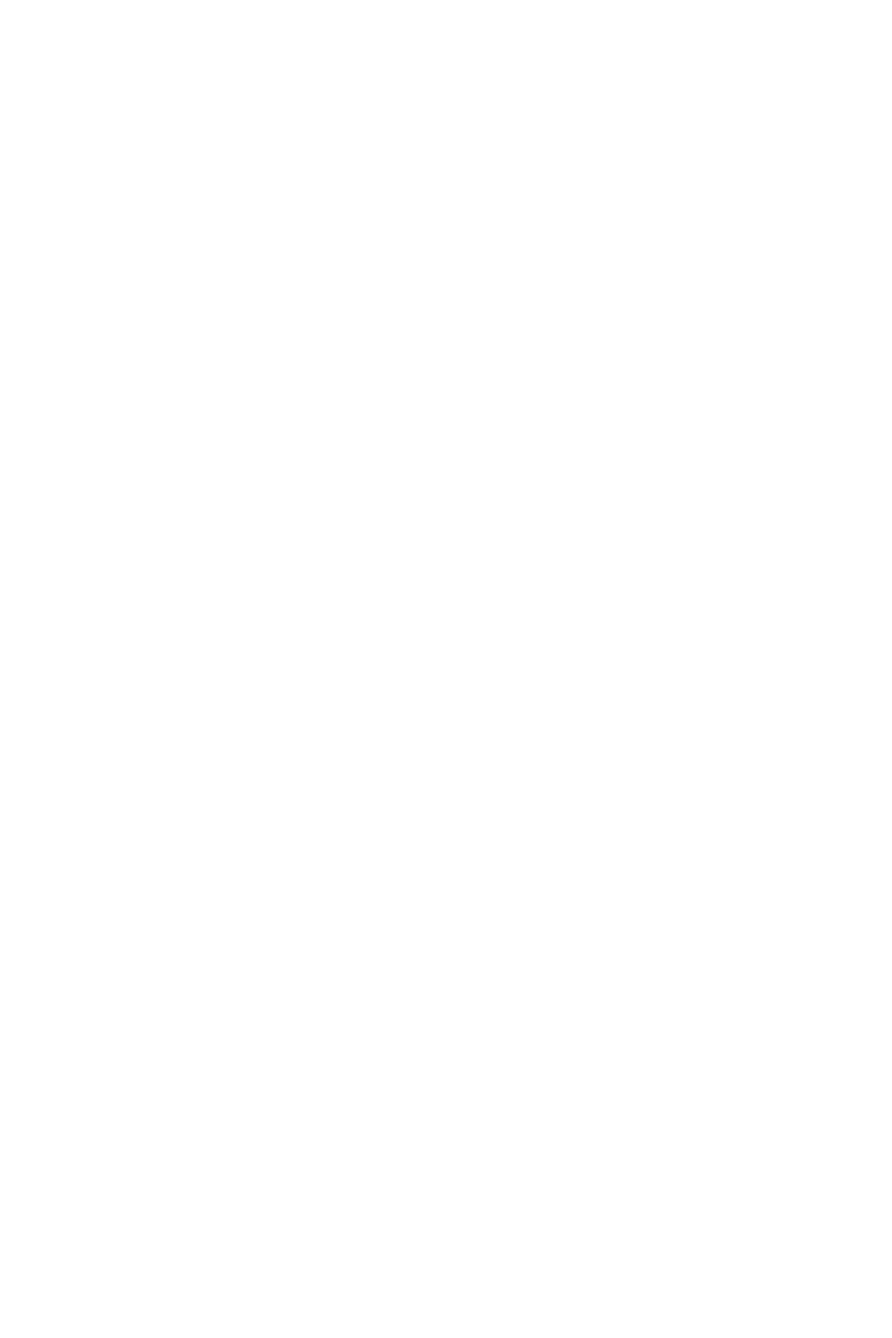
Современная пандемическая, и совершенно нетипичная ситуация взывает к философии, ждет от нее слова истины, которое посвятит мрак мира светом смысла. И философия вроде не молчит: в сети много философских версий и даже ответов на происходящее. Но являются ли они подлинно философскими? Такое ощущение, что нет, ибо они встраиваются в дружной хор различного рода знания того, что происходит, каковы причины и что будет дальше. Именно знания, поскольку сегодня все всё знают. Разумеется, на свой лад: у биологов, теологов, психологов, социологов, политологов, юристов, экономистов и конспирологов имеются свои собственные стройные и логичные теории, сущностно различающиеся, но сходные в общем – они именно знают, что происходи сейчас.
Но действительно, в такой ситуации грех молчать. И обилие интерпретаций свидетельствует о том, что мысль заработала, закипела даже у тех, кто раньше вообще практически не мыслил. Страх побуждает рефлексию, которая, за неимением другой возможности что-либо сделать, спасается тем, что изобретает очередную версию. Но кажется, что все мимо цели. Как всегда, история, жизнь намного хитрее тех, кто пытается поймать истину «за хвост», а Бога «за бороду». В руках остается лишь тень всегда ускользающей истины.
Каково же положение философа в этой ситуации? Какова философская позиция? Единственная, которая отвечает всегдашнему этосу философии, заключающемуся, прежде всего, в удивлении, сомнении и мужестве быть вопреки ужасу и незнанию. Философ может сейчас честно заявить свою позицию, что он не знает, что происходит. Проявить сократовское незнание, которое есть на самом деле более высокое знание, в котором утонут все имеющиеся бесконечные версии и интерпретации, в которых нет ни грана истины. Или последовать за Хадеггером, который говорил, что «отрешенность от вещей» и «открытость тайне» обладают спасительным действом для человека.
И вот, отрешаясь от всех существующих позицией, не разделяя ни одну из них, не соглашаясь ни с кем ни в чем, философ проявит высочайшую нравственную чистоту и силу своего скепсиса и сомнения, которое приведет его не к сиюминутным, всегда ошибочным и абсурдным действиям, но к умудренному взгляду на жизнь, в которое возможно и такое. Отрешение приведет его к тайне. И он удивится происходящему как истинно непостижимому, и в его удивлении будет гораздо больше истины и смысла и реальной жизнеутверждающей силы, чем в той бесконечной многоголосице нефилософской суеты, в которую все сейчас погружены.
Но действительно, в такой ситуации грех молчать. И обилие интерпретаций свидетельствует о том, что мысль заработала, закипела даже у тех, кто раньше вообще практически не мыслил. Страх побуждает рефлексию, которая, за неимением другой возможности что-либо сделать, спасается тем, что изобретает очередную версию. Но кажется, что все мимо цели. Как всегда, история, жизнь намного хитрее тех, кто пытается поймать истину «за хвост», а Бога «за бороду». В руках остается лишь тень всегда ускользающей истины.
Каково же положение философа в этой ситуации? Какова философская позиция? Единственная, которая отвечает всегдашнему этосу философии, заключающемуся, прежде всего, в удивлении, сомнении и мужестве быть вопреки ужасу и незнанию. Философ может сейчас честно заявить свою позицию, что он не знает, что происходит. Проявить сократовское незнание, которое есть на самом деле более высокое знание, в котором утонут все имеющиеся бесконечные версии и интерпретации, в которых нет ни грана истины. Или последовать за Хадеггером, который говорил, что «отрешенность от вещей» и «открытость тайне» обладают спасительным действом для человека.
И вот, отрешаясь от всех существующих позицией, не разделяя ни одну из них, не соглашаясь ни с кем ни в чем, философ проявит высочайшую нравственную чистоту и силу своего скепсиса и сомнения, которое приведет его не к сиюминутным, всегда ошибочным и абсурдным действиям, но к умудренному взгляду на жизнь, в которое возможно и такое. Отрешение приведет его к тайне. И он удивится происходящему как истинно непостижимому, и в его удивлении будет гораздо больше истины и смысла и реальной жизнеутверждающей силы, чем в той бесконечной многоголосице нефилософской суеты, в которую все сейчас погружены.
Первым узнавать новости BIBLIOTEKA VVV
Подписывайтесь и первыми получайте новости и обновления проекта